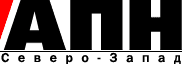 |
| ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | ПУБЛИКАЦИИ | МНЕНИЯ | АВТОРЫ | ТЕМЫ |
| Вторник, 3 марта 2026 | » Расширенный поиск |
Грустная улыбка ленинградской Мадонны: феномен советского писателя
В наше время человеку сложно назвать себя ценителем советской литературы, во всяком случае — советской прозы. На то есть ряд причин, среди которых можно выделить её тотальный официоз. Но начиная вгрызаться в этот громадный пласт нашей культуры, сопоставляя одно с другим и выявляя общие тенденции, можно найти по-настоящему ярких и уникальных писателей. И речь не о расцветших на фоне оттепели шестидесятниках и речь никак не о диссидентах. Их влияние сложно недооценить, но так же просто не заметить за их спинами тех, кто по-своему оказался более значителен, более судьбоносен для нашей литературы. Оказавшись на тяжёлых, поворотных моментах, они смогли пронести литературу, не исказив и не утратив её особое значение. Те немногие, о которых я хочу говорить — это железные люди, прошедшие стройки, тюрьмы и фронтовые ужасы Второй мировой войны. Я говорю о первых поэтах Советской республики в лице Ольги Берггольц, о феномене такого писателя в советском обществе. Она родилась в скромной семье, тёмные её родственики отнюдь не могли понять её устремлений в поэзии, но активно поощряли тягу девочки к развитию. Не понимали они её богоборческих, социалистических взглядов, однако прощали, потому как любили. Эта любовь вопреки, любовь к тому, кто борется против тебя, возможно, именно то, что поняла Берггольц ещё тогда — поняла ребёнком. Она пронесла эту проекцию любви через всю жизнь. Характерное явление для ряда советских писателей: публичная, гражданственная поэзия, взывающая к идеалам патриотизма и общности и совершенно личная, интимная проза, причём написанная совершенно просто — проза, повествующая о детстве и юности, об обычной, тяжёлой жизни. Так или иначе, и та, и другая среды обращаются к пафосу народности, массовости, но оттенки у них совершенно разные. Если быть поэтом по Маяковскому — это быть тем, "кто пишет марш и лозунг", то быть прозаиком в советское время означало ориентироваться на Горького. Соцреализм Горького и в частности его "Мать" задали грядущей прозе тон совершенно личного повествования, откровения. "Мать" — роман, написанный в период революции 1905 года — книга о горечи и поражении, но в этом её сила, поднимающая знамёна завтрашней надежды. Таким образом, тон советской прозы — то негласное правило, на которое будут оглядываться ещё очень долго — заключается в попытке скрещения общественного и личного, себя и другого. Советский писатель должен был быть носителем всечеловеческой души, даже когда повествование идёт о войне (и даже особенно в таких книгах). И стоит признать, что подобная попытка часто заканчивалась литературным фальшем. Но на этом фоне творчество Берггольц выглядят как нельзя парадоксально — оно, отвечающее главному мерилу эпохи, читается живо и красочно, просто и, тем не менее, вдумчиво. Именно за эту чуткость, особенно отразившуюся в военной прозе, в стихах и речах, её и прозвали "Ленинградской Мадонной". Война как на стихия надрыва всегда требует в противовес себе образ милосердия. И как раз здесь Берггольц применяет удивительный ход сопоставления малого с большим, сопоставления жизни и смерти, сопоставления настоящего и прошлого — она обращается к своему детству. В эти страшные минуты советский человек прислушивается не к цензуре, а к биению собственного сердца. Вот её сердце, запечатлённое на страницах "Дневных Звёзд": Она бежит по осаждённому Ленинграду и видит воспоминания своего раннего детства: первая в её жизни демонстрация, горячий и пыльный уличный воздух и реющие красные знамёна; глухо гудит медный оркестр, играя "Интернационал". Дети не поют, а жадно выкрикивают самые страстные строки. Вот уже она вспоминает, как отец привозил немецкую каску с полей Первой мировой войны. Зрелище остроконечного пикильхельма впечатлило детей и они спрятали его за печку. Помнит она и нэпмана дядю Гришу, владевшего конфетной лавкой на углу. Наконец, она вспоминает морозный вечер 21 января 1924 года. Каждая фабрика гудела тогда по-своему, по-особенному, как бы оплакивая смерть советского вождя. Взгляд ребёнка, увлечённого идеями великой стройки, последующая упорная работа, арест и эти баснословные улицы, помнящие всё: теперь они горят и гибнут под ударами немецких снарядов. Ей хочется сражаться и умереть за революцию своего детства, за пламенные её мечтания. Хочется умереть, защищая то, ради чего прежде хотелось жить. И нету больше ни страха, ни времени, ни смерти. Только советская поэтесса пробегает по улице, сжимая в оцепеневших руках противогаз. Вот оно, сердце без всякой цензуры говорит то, что не может создать ни одна, даже самая лучшая пропаганда и, тем не менее, говорит именно то, что нужно для полной, окончательной победы. Правда — горячая, святая, искренняя — самая лучшая пропаганда, совесть — лучший комиссар. То самое скрещение пламенности и сокровенности даёт рассказам Ольги Берггольц столь необходимые лёгкость и воздушность, пронизанность солнцем и правдивость. Она пишет о войне, но кажется, что светит солнце и только чутка дрожит роса на листьях деревьев. Это её проза, её «Дневные звёзды», в которых она вспоминает решительно всё. Нужно отметить и то, что наступившая война как ничто другое вскрыла безразборный характер советских репрессий, потому как многие из вчерашних "врагов народа" шли воевать за независимость своей советской родины с новым пламенем в сердце. Вторая мировая война стала для поэтов и художников второй революцией. Со всем своим трагизмом, со всей своей одухотворённостью и со всем своим величием, она переродилась в национальный эпос. И те, кто прежде сидели в тюрьмах и подвергались травле, увидели этот светоч и вновь встали на защиту былых, уже казалось погибших идеалов. Искренность настоящей советской литературы выявляется в самые страшные времена, тогда когда другой бы разуверился и отрёкся бы, сидя за решеткой в Крестах. Советский поэт в руках у советской власти — что может быть страшнее и трагичнее этого? Но это не меняет главного — веры в то, что красная идея победит, что человек покоряет себе Землю, что человек — это звучит гордо. Берргольц не дала себе пасть духом и, сильно измучившись, не отреклась от имени советского поэта. Вот он – тот самый принцип советского писателя: Да! Мы можем быть не поняты, мы можем быть отвергнуты нашей Родиной, но мы никогда и ни при каких условиях не отвергнем нашей Родины! Так страдала Берггольц, так страдал Платонов, так страдали многие. Это уже не литература — это человек, его несгибаемая, неистребимая натура. Казалось бы, как может писать столь чуткие, столь проницательные слова тот, кому уже должны быть безразличны и жизнь, и смерть, тот, кто на этой войне потерял собственного сына. Вся эта невыплаканная душевная сила не разрывается, но огромным сдерживающим усилием мягко разливается на страницы, потому что гнев — то, чего в избытке, а милосердие — то, что сейчас так необходимо. Вся оставшаяся в матери нежность, которую её сын уже никогда не получит, вся горечь, весь страх сливаются в пронзительную мелодию — в её речи, в стихи и в прозу. Она выступает на радио, пытаясь подарить то, в чём так нуждаются сотни тысяч людей. В эти волнующие моменты требуется максимальная концентрация, максимальное душевное и нервное напряжение, как если бы вы пытались выжать хоть каплю масла из камня, из непрерывно холодеющего от страха и горечи сердца. Таким должен быть советский поэт, "выворачивающимся нутром". И то, что либеральная интеллигенция позиционирует как доказательства жестокости режима (поэзия), в сущности своей является попыткой отрефлексировать весь двадцатый век. И даже не самой попыткой, а только её фрагментом, ибо трагические строки, написанные Блоком на заре его юности, не имеют никакого отношения к сталинским репрессиям или голодомору, но в тоже время они (конечно по своему) не менее беспощадны в уровне своего трагизма.Но так и поэт — существо само по себе трагическое. То, что либералы называют борьбой и позиционируют как знамя борьбы против тирании, в сущности, в большинстве своём является поэтической позой, попыткой пережить время, уничтожить его. Недаром мученица режима Ахматова называла себя "хрущёвкой". Исходя из либеральной логики непогрешимая, несгибаемая Ахматова изменила своей стоической позе мученицы. Это дрейфующее время, эпоха взлётов и падений, о котором нельзя судить понятиями плюса и минуса. Об этом писали многие, и ясней всего об этом написал Давид Самойлов: «Мне выпало счастье быть русским поэтом.
Это не продажность, это самоотверженная попытка быть, несмотря ни на что, вместе со своим народом. Если народ готов умирать, готов сражаться, несмотря ни на что, то должен быть и тот, кто, несмотря ни на что, будет писать об этом. Будет тот, кто попытается забыть о себе и слить себя с окружающим миром, отдать свою душу без остатка туда, где она принесёт пользу, где она утешит, где она вдохновит, где спасёт кого-то. Советская литература — "литература жрецов", как её иногда называют. Истинный поэт по Мандельштаму — враг литературы. Но разве человек, написавший эти строчки, — не самый настоящий враг литературы? «Поэзия стала частью моей жизни с самого раннего детства.
Литература стала разменной монетой в политических игрищах. Самое интересное — то, что либералы переняли у советской пропаганды методы риторики в этом отношении, и она приобрела обратно направленное движение. Писатели свободной души — только враги и герои политических курсов, только ярлыки, только за власть или против власти; в это же время настоящий писатель думает совсем не такими категориями. По итогу мы получаем постоянную подмену действительности: то вычёркиваемые образы, то искажённые. Посмотрите, сколько бронзы налипло на Маяковского, потом посмотрите, как его всеми силами записывали в антисоветчики. Всё это — пена дней. Между тем, литература может служить политическим аргументом в широком смысле, но не в своих частностях — это миры миров. Но литература в широком её понимании имеет такое же прямое отношение к реальности, как и не имеет к ней никакого отношения. Главный диссидентский литературный лозунг — «Жить не по лжи». Так что же? Те, кто отдавал жизни, те, чьи строки написаны кровью, те, чей голос раздаётся, как выстрелы гаубиц, — разве они жили "по лжи"? Литературой орудуют и правые, и левые. Так в завершение всему вышесказанному мне хочется спросить: где же сама литература? А литература у них — у одинаково отверженных, у одинаково реабилитированных, у одинаково поднятых на знамя и у одинаково забытых. У настоящих идеалистов и романтиков, у ругаемых всеми кому не лень, у низвергнутых и у возведённых в сан. Их десятки, их сотни: это Слуцкий, это Левитанский, это Самойлов, это Светлов, это Долматовский. И, конечно же, это Ленинградская Мадонна, поразившая нас своей загадочной, своей грустной улыбкой. Дмитрий Каляев |
Мозговой шторм. Подобные экстремистские организации не имеют право на существование в нашем российском обществе. Конечно, мы положительно к этому отнеслись. Мы давно проявляли эту инициативу. Надеюсь, что активисты ДПНИ не смогут создать подобную организацию под новым названием. |