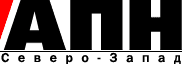 |
 |
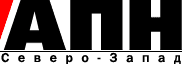 |
 |

В предисловии к прошлой статье я отметил, что отнюдь не являюсь поклонником советской литературы, что не отменяет моего исследовательского интереса к ней. Высшее наслаждение — плутать по её лабиринтам, имея в запасе альтернативные ей суждения и теоретические представления об искусстве.
Но всё-таки это не тот привычный угол, с которого смотрит обыкновенный читатель на умопомрачительные зиккураты замаранной бумаги. Читатель вынужден превращаться в искателя корений и акридов в этой пустыне взаимозаменяемости, но читатель любит изобилие и не любит охотиться. Из-за этого рынок советской литературы так малопрезентабелен — потому что среди руин в нëм приходится искать те сохранившиеся проблески, едва дошедшие до нас через мириады инстанций и злоключений.
И пускай не обманывает себя ностальгирующий по Корчагину читатель. До того, как золотой фонд вычеркнули из школьных программ и перестали издавать, он умер сам собой, в своей вездесущей духоте. Не раз уже история подтверждала: что сегодня окрашено золотом — завтра будет валяться на помойке. Это вечный ход культуры, где один запрос сменяется другим, но сегодня уже хотелось бы заглянуть вглубь этого механизма, отнюдь не останавливаясь на поверхностных тезисах о том, что "телевизор убил в нас человека".
Ведь главная проблема идеологии в художественной литературе состоит в том, что идеология есть некоторая надстройка над миром. В то время, как первые произведения левой литературы разворачивали перед нами такие картины мира, что не думать о благости коммунистов было уже невозможно, то закоренелая и избитая манера левого письма уже к середине века содержала необходимость явную или не очень. Вывод о том, что тот или иной взгляд верен, должен вытекать непосредственно из содержания, а не из необходимости соответствовать заявленным требованиям.
Постепенно она, эта нарочитость, становится порядком вещей, необходимостью, а затем плавно выжимает всё животворительное пространство бумаги, оставляя один немыслимый, повторяющийся из раза в раз ритуал. И как бы ни бунтовали и ни плевались привыкшие "к хорошему, доброму, вечному", именно они, занявшие места во всех мыслимых и немыслимых редакциях, сделали со своей цензурой возможным появление на приисках советской литературы таких вещей, как, например, "Норма", "Зияющие Высоты" или "Школа для дураков". Ваша монополия породила бунт, ибо любое действие порождает противодействие.
Но правильное понимание литературной политики заключается в том, что Сила художественного изображения — это высшая идеология в литературе.
Некоторые вещи просто достаточно было написать так, как есть, для того, чтобы читатель стал коммунистом. Ярчайшими примерами мировая литература изобилует — это и тюремные сочинения Оскара Уайлда, осознавшего, в каком мире он живёт, это и острый и жестокий "Огонь" Анри Барбюса. Это первооткрыватели песен революционной борьбы и тихого страдания миллионов.
Но когда мы мы видим, как Луи Арагон в истошной попытке всучить "козе баян" пишет роман "Коммунисты", явно подражая "Матери" Максима Горького, у нас уже не остаётся сил, чтобы читать эти многословные вирши.
Благими намерениями выстлана дорога в ад, и левая литература, задавая высокие планки, заставляя всякого писателя делать если не одинаковые выводы, то выводы, находящиеся в одном диапазоне, лишила себя той гениальной неожиданности и экстраординарности, которую на земле принято называть "вдохновением". Более всего рукотворны, выверены и кропотливы прошедшие через цеха советской литературы книги, но тем не менее — мертвы. Так и получилось, что рукотворность и регламент убили миллионы озарений, вычеркнув их сальными карандашами толстых цензоров. Они рассматривают литературу как бланк отчётов, как рупор, в который нужно орать одно и то же. Но им не пришло в голову, что чем сильнее ты будешь орать, тем больше ушей заткнёшь безвозвратно. Вы хотите изобразить то, насколько вы привержены того или иного морального компаса? Вот мы и видим, как истошно вы хотите это изобразить!
Ведь первые писатели коммунисты стали таковыми не потому, что прочитали в школьной программе "Малую Землю" Леонида Брежнева в школьные годы. Нет, они жили так, как живут люди, и воспитывали свою чуткость и проницательность к миру, порой даже зачитываясь "буржуазными" романтиками.
Наша литература сама создала в народе предубеждение о том, что "старое, а тем более иностранное — лучше". Дети читали фантастику, а взрослые любили Хемингуэя. Потому что та неподдельная чувственность и созерцательность роднит всякое настоящее произведение, несмотря на то, имеет оно политическую подоплёку или нет, имеет оно правильный морально воспитательный окрас или нет.
В тоталитарной культурной политике всегда балом буду править посредственности. Ибо посредственности предсказуемы и надëжны, в то время как творцы непредсказуемы и вообще "сами себе на уме". Тоталитарная культура — вот от чего нива литературы страдает хуже, чем от саранчи. В России 19 века это была аракчеевшина, затем совдепия. На западе это было грязной инсинуацией гитлеровцев, а затем — не менее тоталитарной диктатурой либерализма.
Далеко не нужно ходить ни за одним примером: начиная от "Мёртвых Душ" Гоголя, продолжая Платоновым или, например, Юнгером в Германии мы мигом выходим на какую нибудь лесбиянку Гермиону Грейнджер или, например, на чернокожего Маннергейма.
Вывод таков, что если вы хотите уничтожить чью-то идеологию, напишите книгу. Нет, сотню, тысячу книг, восхваляющих, прославляющих эту идеологию всеми возможными способами! Ибо не так страшна кучка диссидентов, как неповоротливый и громоздкий механизм идеологии в аппарате Суслова.
Идеология живёт во всём, но не всякое требует того, чтобы в нём это подчёркивали. Одни будут зажигаться ненавистью и любовью от Платонова, а другие точно так же будут рыдать и умиляться над приключениями Эдички в Нью-Йорке. И в моральной чистоте обоих нам не придётся сомневаться.
Дмитрий Каляев